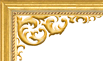 |
 |
|
 |
Русские и капитализм
Капитализм на западе и средневековая Русь Когда речь заходит о зарождении и развитии капитализма, у мало-мальски образованного человека в сознании почти автоматически возникает ряд понятий и сопутствующих им образов и картин. Прежде всего, капитализм неизбежно ассоциируется с промышленным переворотом, индустриализацией, паровой машиной Уатта и механической прялкой Дженни. Техника и механизмы, созданные на основании открытых законов природы, вытесняют в ходе этого переворота мускульную силу человека и животных из области производственной деятельности. Есенинский жеребец проигрывает соревнование паровозу, похожему на апокалипсического зверя. Нахимов топит свой овеянный славой парусный флот в Севастопольской бухте, не в силах противостоять английским паровикам. Массовая фабричная продукция уничтожает ремёсла и искусства. Штампуются вещи, штампуются мысли. Старательного писца, гусиным пером выводящего на свиной коже уставы и полууставы, заменяют ротационные машины, ежедневно выплёвывающие из своих стальных утроб миллионные тиражи газет. Воображение читателя легко нарисует картину быстрой по историческим меркам смены сельских пейзажей с возвышающимися там и сям колокольнями деревенских церквей урбанистическими пейзажами "каменных джунглей", где вместо колоколен вознеслись нацеленные в небо фабричные трубы…Технологические, хозяйственные перемены сопровождаются грандиозными политическими переворотами. Сначала фламандские бюргеры, морские и лесные гёзы восстают против власти испанских королей, крушат твердыни абсолютизма и феодального сословного порядка. Испанский "рыцарь печального образа" вынужден стушеваться перед весёлым и бодрым мужланом Тилем Уленшпигелем. Вслед за тем "железнобокие" Кромвеля громят "кавалеров" Карла Стюарта, а вдохновенные толпы парижской черни штурмуют Бастилию. Падают на эшафот августейшие головы; потоками льётся "голубая" кровь аристократов; сквозь пороховой дым соблазнительно мелькает обнажённая грудь "Свободы на баррикадах", и т.д. Результатом всех этих калейдоскопических событий стало радикальное изменение мирового политического ландшафта: место более или менее абсолютных монархов - царей, королей, шахов и султанов, - которые господствовали в подавляющем большинстве государств мира ещё в XVIII веке, заняли ныне однотипные демократические режимы с выборными парламентами и президентами. Наконец, все эти преобразования подготавливались и обуславливались глубокими переменами в общественном сознании, в мировоззрении человека, известными под общим названием "научной революции". Величественные фигуры Галилея и Джордано Бруно, Ньютона и Вольтера символизируют для многих поколений мужество и мощь свободного разума, разрывающего путы средневекового мракобесия, религиозных мифов и предрассудков. Благодаря дерзновению их ума, человечество обрело совершенно новую картину мира, новое рациональное сознание, сдав прежнее религиозное в кунсткамеру как дополнение к прочим монстрам и курьёзам. Божественное откровение этим новым сознанием подверглось осмеянию, а библейская история по достоверности уравнена со сказками матушки Гусыни. Ответ на тайны бытия в научный век люди принялись искать не в боговдохновенных текстах, а в окуляре микроскопа и в содержимом реторт. Истина стала гипотезой, выпрашивающей санкцию у практики. Евангельское "в начале было Слово" смелой рукой исправлено на "в начале было Дело" (Гёте И. В. Фауст. М., 1975. С. 46-47). Обобщая эти знакомые со школьной скамьи картины, можно попытаться определить капитализм как одну из известных человечеству общественных систем (или, в марксистской терминологии, формаций), каждая из которых может быть охарактеризована: 1) специфическим типом хозяйства, то есть способом добывания и распределения материальных благ (в случае капитализма это промышленное производство и рыночный обмен); 2) особым политическим строем, служащим гарантией устойчивости сложившихся общественных отношений (выборная демократия); 3) особым мировоззрением, объясняющим человеку, кто есть он сам, что есть окружающий мир и как жить в гармонии с этим миром и с самим собой (рациональная наука). Каждая из этих, если можно так выразиться, "ипостасей" капитализма единосущна всем остальным. Промышленный переворот всецело обусловлен "научной революцией", либеральные политические революции Нового Времени, в свою очередь, теснейшим образом взаимосвязаны со становлением индустриального капиталистического общества. В частности, механизм формирования государственных институтов посредством свободных выборов находит себе прямую аналогию в свободных рыночных регуляторах капиталистического хозяйства. Однако ни свобода политического решения, ни свобода рыночной самодеятельности не была бы возможна без появления свободной и независимой личности, находящей опору в сознании автономности собственного разума и требующей себе "прав человека". Разумеется, вышеприведённые разрозненные картины исторических событий XVI - XVIII вв., а также общие формулы, констатирующие взаимосвязь этих событий, не в состоянии дать удовлетворительного понятия о содержании и смысле системы капиталистических отношений. Углубиться в это содержание и разобраться в смысле этих отношений представляется возможным только путём сопоставления их с системой иных общественных отношений. Следуя принципу историзма, за основу такого сопоставления уместнее всего взять систему отношений феодального общества, предшествовавшего капитализму и уничтоженного последним. Сравнение и выяснение специфики двух систем удобно провести по выделенным выше трём основным параметрам: 1) экономический строй, 2) политический строй, 3) строй мыслей. Относительно господствующего в феодальном обществе мировоззрения однозначно можно сказать, что таковым была религия, а в средневековой Европе - в том числе, и в России, - христианское вероучение. Следовательно, развитие и распространение рационального научного мировоззрения происходило именно в ожесточённой борьбе с христианскими представлениями о мироздании, о назначении человека и смысле его жизни. Каково же было идеологическое содержание средневекового христианства? Как оно отвечало на эти "вечные" вопросы о смысле человеческого существования? Коротко говоря, цель жизни христианина - спасение души для жизни вечной. Путь к этому как будто прост: следование заповедям Божьим и воздержание от греха. Однако простота эта кажущаяся: сколь трудно исполнить хотя бы одну Божескую заповедь, показывает пример прародителей, созданных совершенными и бессмертными, но изгнанными из рая за нарушение не такого уж невыполнимого условия. На что же может рассчитывать отягощённый немощью и болезнями, смертный и добывающий хлеб свой в поте лица потомок Адама и Евы? Уберечься от греха ему нет никакой возможности, "ибо нет человека, который не согрешил бы" (2 Пар 6, 36. 3 Цар 8, 46). "Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас", - свидетельствует Иоанн Богослов (1 Ин 1, 8). Это иудей может надеяться стяжать праведность строгим исполнением Закона, для христианина же добиться спасения, полагаясь исключительно на свои собственные усилия, немыслимо. Только смиренное упование на не имеющую меры милость Божию и не признающую человеческих путей, парадоксальную с точки зрения разума Благодать отверзает христианину врата в жизнь вечную. Смирением, покаянием и покорностью воле Божьей нудиться Царствие Небесное: "Жертва Богу - дух сокрушённый; сердца сокрушённого и смиренного Ты не презришь, Боже" (Пс 50, 19). Выразительно писал об этом Преподобный Иосиф Волоцкий (1440-1515) в своём знаменитом "Просветителе". Произведение это имеет для нас особливый интерес, поскольку, разоблачая ереси - главная цель "Просветителя", - Иосиф путём тщательного исследования ложных представлений и заблуждений разума выявляет истинные взгляды, согласные со Священным Писанием и Преданием. Благодаря этому "Просветитель" может служить своеобразной энциклопедией средневекового христианского миросозерцания. Немаловажно и то, что ересь жидовствующих, побудившая Иосифа взяться за перо, по своим идеям является родственной протестантизму, знамя которого спустя каких-то 10 лет после разгрома жидовствующих в России (1504) поднял в Западной Европе Мартин Лютер [1]. Протестантизм же, как блестяще показано в работах Макса Вебера [2], послужил вместилищем "духа капитализма" и был первоначальной, ещё религиозной, оболочкой буржуазной идеологии. Таким образом, в полемике Иосифа Волоцкого с жидовствующими развернулся один из первых жестоких боёв средневекового христианского миросозерцания с нарождавшимся буржуазным. Именно смирение и покаяние считал Иосиф наиболее верным залогом спасения. По его убеждению, "добрые дела - посты, бдение, щедрость в милостыне, другие труды и поты, - это и есть истинное покаяние. Но, - говорит Иосиф, - если кто из-за беды или по слабости не делает вышесказанного - то всё же умерший за человеческие грехи Иисус Христос принимает и словесное покаяние, и устное исповедание не отвергает". Далеко не всем по плечу идти тесными вратами отречения от мира и умерщвления плоти, но путь смирения доступен каждому: "Бог, создавший нас, принимает от желающих спастись не только мученическое страдание и постническую жизнь, но и скорбь о грехах, земные поклоны, удары в грудь, коленопреклонение, воздеяние рук с сердечным сокрушением, сетование о грехах, воздыхание из глубины сердца, плач и рыдание, капли слёз, измученную, вопиющую совесть и плод уст, исповедующих Имя Господа Иисуса" [3]. Следовательно, едва ли не главным препятствием к спасению является гордыня, недаром почитаемая в христианской традиции одним из тягчайших грехов. К смирению гордыни приучала не только церковная доктрина, но и социальная действительность европейского Средневековья. Различные формы феодальной зависимости, вплоть до крепостного права (особенно жёсткие и стеснительные формы приобретшего в России), вырабатывали привычку к подчинению чужой воле, к послушанию старшим и высшим. Послушанием назывался и монашеский подвиг - кратчайший путь к спасению. При этом от подчинения и послушания не были избавлены и власть имущие классы средневекового общества. Любой господин, любой сюзерен являлся чьим-то вассалом, кому-то служил, кому-то давал присягу верности и целовал крест. Сами верховные властители той эпохи - короли, цари и императоры - не были абсолютными суверенами, а управляли своими владениями по уполномочию свыше, держали "удел Пресвятой Богородицы" и т.п. Но ещё важнее то, что уничижение человека - факт не только социального, но и космического порядка. Человек Средневековья рассматривал себя не как венец эволюции, не как всемогущего "царя природы", над которым нет ни власти, ни суда, - а как всего лишь один из элементов в многосложной иерархии существ, служащих Всевышнему Богу. Средневековый космос - это не бесконечное пространство, не имеющее ни предела, ни формы, а многоступенчатая пирамида, или гора ("горний мир"), вершина которой - обитель Господа Вседержителя. На близлежащих к ней уровнях пребывают серафимы и херувимы, ангелы и архангелы, сонм святых и праведников, а в самом низу этой пирамиды пресмыкается смертный и грешный человек. Такая структура мироздания описана в книге Дионисия Ареопагита "О небесной иерархии". Подобным же образом устроены "многоярусные" небеса в популярном на Руси средневековом апокрифе "Хождение Богородицы по мукам" (а на западноевропейской половине христианского мира, - например, в знаменитой поэме Данте "Божественная комедия"). Этот иерархический образ вселенной нашёл отражение и в церковных иконостасах. Падшестью человека обусловлено его космическое ничтожество и страдательное положение в драме мировой истории. Поэтому даже самый высокопоставленный в земной юдоли человек (царь) есть всего лишь жалкий раб Божий и деяния его - всего лишь результат Промысла, направляющего мир и людей к предуказанной свыше цели. Всё в воле Божией, посему надо безропотно принимать выпавший тебе удел, не пытаясь изменить свой социальный статус на более высокий. Каждому уготовано Господом своё место и дано своё предназначение. Причём этот порядок и гармония также носят космический характер: не только люди, но и животные и даже неодушевлённые предметы должны следовать своему предназначению, не нарушая вложенной в них Божией премудростью "программы". Последнее расценивалось как восстание против Божественного миропорядка. Как писал Иоанн Экзарх (Х век), автор популярного в средневековой Руси "Шестоднева", "зло кому бы то ни было нарушать свой чин и безбоязненно преступать установленные ему пределы", ибо даже "бездушные вещи соблюдают эти установленные пределы" [4]. "Восстание" вещей может привести к космической катастрофе, так же как и отказ человека следовать "своему чину" может взорвать социальный порядок. Следовательно, надо оставить помыслы об исправлении общественных отношений, а все усилия устремлять на внутреннее совершенствование, на очищение от греха и уповать на милость Божию. Социальный активизм, даже обусловленный благими намерениями, оказывается признаком недоверия к премудрости Божией, высокомерным и самонадеянным посягательством на Промысл. "Человек, унизив себя, спасается Божьим человеколюбием: не деятельными добродетелями, но сокрушением сердца, глубиной смирения и тёплой верой", - утверждал Иосиф Волоцкий [5]. Совершенно иное представление о человеке и его месте в мире присуще буржуазной идеологии. Человек современного капиталистического общества не рассчитывает на милости с неба, а сам стремится достичь своих целей, которые сам же себе и ставит. Инициатива считается здесь одним из самых ценных качеств; самостоятельность и личная независимость от кого бы то и от чего бы то ни было составляет идеал счастливой жизни (в христианском понимании это гордыня). При этом независимость от людей и обстоятельств достигается всего удобнее деньгами, поэтому стяжательство и накопление становятся оправданными путями достижения успеха. Изменяется и статус человека в мире. Он присваивает себе социальную и историческую субъектность, ощущает себя хозяином не только своей судьбы, но и судьбы окружающей природы, да и всей планеты. "Небесную иерархию" Дионисия Ареопагита опрокинул ещё Коперник в начале XVI века. Его современники философы-гуманисты в своих трактатах воспевали нового прометеевского человека, который сам творит себя и принял эстафету миротворения от отправленного на покой Бога [6]. Такой грандиозный переворот в представлении человека о вселенной и о себе самом, происшедший в западной части христианского мира, объясняется не только освоением античного научно-философского наследия в эпоху Ренессанса. Истоки ренессансного бунта против средневекового миросозерцания берут своё начало в отпадении римско-католической церкви от православия в середине XI в. Самочинно добавленный католиками в Символ веры догмат об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына (по латыни filioque ), резко нарушил соотношение Божественных ипостасей в Троице. Сын Божий Иисус, Он же и Сын Человеческий, тем самым сделался не только един, но равен во всём Отцу. Природа человеческая, в Сыне заключённая, стала в одинаковой мере источником Духа Святого и возвысилась через это до природы Божественной. Творческая благодать, следовательно, так же присуща человеку, как и самому Богу, нужда в молитвенном обращении к Которому и в покаянном общении с Которым стала постепенно иссякать. На заложенной filioque почве по прошествии веков вполне закономерно возникает ренессансный титанизм. Человек пытается превзойти Божье творение: Микеланджело создаёт скульптуры, чьи тела совершеннее созданных Богом живых людей: доктор Фауст, алхимик и маг, выращивает в пробирке Гомункула, предназначенного своими достоинствами и качествами затмить Божьи творения… К "титанам Возрождения" недаром причисляют и инициатора Реформации Мартина Лютера [7]. Провозглашённые им принципы религиозной реформы - отрицание церковной иерархии и авторитета Предания - означали новый шаг на пути эмансипации человека. Ссылаясь на извращение Христова завета папской курией, протестанты пропагандируют обращение каждого мирянина напрямую к Священному Писанию (для этого Лютер специально сделал немецкий перевод Библии) и право самостоятельно толковать смысл библейских текстов [8]. Человек становится не рабом Божьим и даже не сыном Божьим, он становится критиком Откровения, возвышаясь тем самым над Божественным авторитетом! Из ренессансного и реформационного гуманистического бунта против Бога рождается новоевропейская наука, фаустовская и прометеевская. Если разум человека достаточно силён, чтобы критиковать Писание, которое раньше он осмеливался только комментировать, значит, он способен и сорвать покров с тайн природы, которая есть такой же Божественный текст, только зашифрованный в материальных формах. И вот учёный-протестант Исаак Ньютон (1643-1727), читая природу, как Книгу Бытия, обнаруживает на месте тверди небесной, - кишащей ангелами и архангелами, серафимами и херувимами, и подпирающей престол всеблагого Господа, озабоченного судьбой каждого волоса на главе последнего из смертных, - абсолютную пустоту. А в этой пустоте одинокие атомы, под воздействием безличной и равнодушной силы всемирного тяготения, сбиваются в кучки, превращаются в небесные тела и кружат свой бесконечный и бессмысленный хоровод… На земной поверхности взгляд другого учёного-протестанта Томаса Гоббса (1588-1679) открыл такое же броуновское движение одиноких атомов-индивидов (индивид по латыни означает то же, что атом по-гречески - неделимый). Одиноких, ибо Бог - один, и каждый индивид, ощущая себя равным Богу, не мог не оказаться отчуждённым и изолированным среди тысяч и миллионов таких же "богов", как он [9]. Это одиночество и равенство "человекобогов" Гоббс считал "естественным состоянием", когда "все имеют право на всё". Но "право всех на всё" столь же естественно порождало и "войну всех против всех", так как каждый являлся источником нравственного закона для самого себя и не признавал ничьего авторитета. Опасности и неудобства подобного "естественного состояния" побудили людей заключить между собой "общественный договор" путём всеобщей подачи голосов (по принципу "один человек - один голос"). Избранная большинством голосов коллегиальная или единоличная власть (Гоббс находил предпочтительной последнюю) совокупляла в себе волю, права и авторитет всех маленьких "человекобогов", превращаясь в единого и абсолютного "Бога" ("Левиафана") - источник непреложного закона [10]. Единоличная власть в государстве Гоббса, однако, не имела ничего общего с традиционной монархической властью. Персонализированная диктатура Левиафана не получала свою санкцию от Бога-Творца, а воплощала торжество Разума, рационального сознания в общественной жизни, так же как рациональная наука воплощала победу человеческого разума над природой и абсолютную власть над нею. Делегированные Левиафану-Разуму права и полномочия безусловно отчуждались и не подлежали возвращению. Заключившее общественный договор и создавшее государство-Левиафан гражданское общество носило у Гоббса неприкрыто тоталитарный характер, так как любой индивид, несогласный в чём-либо гражданским обществом, подлежал истреблению [11]. Таково происхождение и смысл государства по Гоббсу. Эта политическая теория была дополнена и исправлена ещё одним учёным-протестантом Джоном Локком (1632-1704), полагавшим, что система Гоббса не вполне соответствует современной (ньютоновой) картине мира, так как сила политического тяготения в ней не уравновешена и допускает сильный перекос в сторону государства-Левиафана. Для придания системе устойчивости Локк предлагал ввести начало разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную [12], которые бы взаимно ограничивали друг друга и удерживали на заданной орбите. Предусматривалась также возможность перевыборов, т.е. временного возвращения индивидам-атомам их толику политической тяжести, если какая-либо из властей нарушала гармонию круговращения политических сфер. Таким образом, буржуазная политическая система приобрела свой классический вид: суверенитет народа как совокупности индивидов, представительная демократия и разделение властей. В XIX веке сторонников подобной государственной модели получили название либералов. Особенно далеко в приложении законов механики к жизни общества зашли французские последователи Ньютона - так называемые физиократы (середина XVIII в.). Само название их школы, буквально означающее "сторонников власти физических закономерностей", подчёркивало их стремление объяснить с помощью методов физики механизмы функционирования социальных отношений [13]. Аналогом физической силы тяжести в общественных взаимодействиях физиократы считали частную собственность, условием движения которой признавалась свобода экономической конкуренции. Человеческую личность (индивида) физиократы отождествляли с собственностью, а свободу личности - со свободой торговли и рыночного обмена. Именно один из представителей этой школы Гурнэ выдвинул знаменитый принцип экономического либерализма " laissez faire, laissez passer ", ставший символом капитализма. Обеспечение беспрепятственной конкуренции на рынке составляет единственную задачу государства, так как все прочие социальные потребности удовлетворятся посредством саморегулирующейся, наподобие ньютонова физического космоса, системы собственность - свобода [14]. Разумеется, теоретики политического и экономического либерализма заботились не только о том, чтобы их построения соответствовали требованиям научности, как её понимали в то время (т.е. принципам ньютоновой механики) [15]. Их идеи, несомненно, отражали определённые классовые интересы (неслучайно систему представительной демократии часто называли буржуазной демократией). В конечном итоге, целью либерального государства является обеспечение "прав человека", т.е. того самого суверенного индивида-"человекобога", который и создаёт это государства, делегируя ему полностью или частично свой абсолютный (ибо Бога нет) суверенитет. Перечень "естественных" прав человека содержится в трактатах философов-просветителей (Локка, Монтескьё, Руссо, физиократов и др.), официально они провозглашены в конституциях времён первых буржуазных революций. Так, в "Декларации прав человека и гражданина" Конституции Французской республики 24 июня 1793 г. говорится: "1. Целью общества является общее счастье. Правительство установлено, чтобы обеспечить человеку пользование его естественными и неотъемлемыми правами. 2. Эти права суть: равенство, свобода, безопасность, собственность". Очевидно, что это далеко не все мыслимые права человека, какие можно было бы зафиксировать в Основном Законе государства. В частности, в Советской Конституции 1977 г. мы обнаруживаем "право на труд" (статья 40), "право на отдых" (ст. 41), "право на охрану здоровья" (ст. 42), "право на жилище" (ст. 44), "право на образование" (ст. 45) и т.д. Но либеральные конституции XVIII - XIX вв., как правило, ограничивались четырьмя названными. Объяснение этого примечательного факта заключается в том, что конституции эти создавались именно для охранения буржуазного правопорядка и буржуазных общественных отношений. Теоретическое обоснование такого правопорядка дано в трактате основоположника политэкономии капитализма Адама Смита (1723-1790) "Исследование о природе и причинах богатства народов". Все социальные отношения в буржуазном обществе, по убеждению Смита, имеют экономическую основу и подчиняются законам рынка. "Каждый человек, - писал он, - живёт обменом и становится до некоторой степени купцом, а само общество превращается, собственно говоря, в торговый союз" [16]. Для обеспечения нормального функционирования такого "торгового союза", т.е. беспрепятственного движения товаров и капиталов достаточно соблюдения права собственности, равенства, безопасности и свободы всех агентов рынка [17]. Все прочие права излишни, а значит, являются неоправданными издержками. Особым покровительством конституций буржуазных государств пользовалось право на "священную и неприкосновенную частную собственность", провозглашённое в статье 17 "Декларации прав человека и гражданина". Смит, из трактата которого заимствована фраза о "священной и неприкосновенной" [18], объяснял в своих лекциях это привилегированное положение права собственности в ряду других прав: "До тех пор, пока нет собственности, - говорил он, - не может быть и государства, цель которого как раз и заключается в том, чтобы охранять богатство и защищать имущих от бедняков" [19]. Физиократы и вовсе сводили к праву собственности все прочие права человека: с их точки зрения, в частной собственности индивида находится и его личная свобода, и его жизнь, т.е. физическое тело. Поэтому в качестве собственников идеологами либерализма рассматривались не только владельцы "заводов, газет, пароходов", но и вообще все индивиды, поскольку в собственности каждого находится его труд, который он продаёт на рынке за неимением ничего другого. Способность к труду воплощается в человеческом теле с его физическими и умственными возможностями, а значит, это тело является таким же товаром, как и любой иной предмет рыночного обмена, и подлежит купле-продаже [20]. Отсюда следует, писал Адам Смит, что "спрос на людей, точно так же, как спрос на всякого рода другой товар, с необходимостью регулирует производство людей" [21]. Если предложение по каким-либо причинам оказывается выше спроса, то излишек людей подвергнется неизбежному уничтожению, как происходит с любым скоропортящимся товаром. Потому-то идеологи буржуазии не признавали "естественным" и неотъемлемым" право на жизнь. С упразднением "права на жизнь" собственно и начинается в Европе капиталистическая эпоха [22]. В скандально известной книге "Опыт о народонаселении" (1798) ещё один классик буржуазной политэкономии Томас Мальтус решительно утверждал, что "право на прокормление не может принадлежать всем людям" [23], если их существование не востребовано рынком. Поэтому "тот, кто родился на свет в обществе, уже достаточно населённом, если… общество не нуждается в его труде, не имеет ни малейшего права требовать для себя хотя бы самую ничтожную часть средств пропитания и на самом деле он может быть назван лишним в этом мире. Природа предписывает ему удалиться и не замедлит исполнить своё собственное предписание… Итак, пусть этот человек подвергнется тому наказанию, на которое осудила его за его бедность сама природа". При этом подчёркивал Мальтус, "надо доказать ему, что законы природы, которые суть в то же время и законы Божьи, осудили на страдание его и его семейство, что он не имеет никакого права на самую малейшую часть общей пищи" [24]. Взвалив вину за голодную смерть бедняков на них самих, Мальтус делал вывод о том, что не правительство, не общественный строй и т.д., а "сам народ является главнейшим виновником своих страданий" [25]. Любая благотворительность и вспомоществование обездоленным расценивалось им как нарушение "Божьих законов", т.е. свободы рыночных отношений. Ведь именно свободу торговли, безопасность рыночного обмена и неприкосновенность частной собственности ограждали буржуазные "права человека", который рассматривался всего лишь как субъект рынка. В ином качестве индивид буржуазную идеологию и законодательство не интересовал. Сущность политического либерализма исчерпывающе выразилась в концепции государства как "ночного сторожа", следящего за тем, чтобы не нарушались правила торговли, и больше ни во что не вмешивающегося. Понятно, что эта концепция государства была чужда политическому сознанию Средневековья. Средневековый правопорядок вообще не предусматривал каких-либо личных прав (хотя общины и корпорации могли обладать пожалованными им правами и привилегиями); он знал лишь обязанности перед Богом и перед обществом. О "правах человека" здесь не могло быть и речи, поскольку человек существует не сам по себе, а как часть целого, как часть какого-либо единства ( universitas ) - общины, Церкви, природы [26]. Он не изолированный и ни от кого не зависящий атом, а живая клеточка "тела Христова" (Церкви), нежизнеспособная вне целого. "Братья наши - члены тела во Христе", - писал Иосиф Волоцкий [27]. Это христианское представление об обществе как об организме восходит к апостолу Павлу, который утверждал в "Послании к Римлянам": "Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены" (Рим. 12, 4-6). В таком типе общественности никто не мог оказаться "лишним", поскольку в живом теле не бывает лишних органов. Средневековый человек, будучи зависимым и несамостоятельным, не мог быть носителем политического суверенитета и передавать его через выборы представительным органам власти. Следовательно, демократическая форма правления являлась тогда совершенно немыслимою. В христианском понимании, один Царь Небесный - источник политического суверенитета. Максим Грек в письме Ивану Грозному ( 1551 г.) выразил это так: "Царь есть не что иное, как живой и видимый, то есть одушевлённый образ Самого Царя Небесного…" [28] Государственное устройство и в Средние Века, как и в Новое Время, рассматривалось по аналогии с космическим миропорядком. Если ньютонова механика задавала матрицу либерально-демократической системы, то средневековое государство являлось зеркальным отражением "небесной иерархии" Дионисия Ареопагита [29]. Поэтому политическая власть, как и власть Бога над миром, признавалась только в качестве единоличной и неограниченной. Иосиф Волоцкий утверждал, что "Царь естеством подобен всем людям, властью же подобен есть Богу Вышнему" [30]. Повиноваться не за страх, а за совесть такой власти - долг каждого христианина, "ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены" (Рим. 13, 4-5) Необходимость беспрекословного повиновения властям неизвестный русский автор "Беседы валаамских чудотворцев" (середина XVI в.) объяснял тем, что "свыше, самим Богом всё отдано помазанному царю и великому, Богом избранному князю… Бог повелел царям царствовать и страной управлять, потому в титлах и пишутся они самодержцами", - а значит: "Бога за них молите, как за самих себя, и больше даже, чем за себя… Желайте добра государям своим во всём, - и жизнь свою надлежит вам за них отдать, и головы свои сложить, как за православную веру свою…" [31] Вместе с тем божественный источник власти не на одних подданных налагал обязательства. Ещё большую ответственность перед Богом несли на себе сами неограниченной властители. Иосиф Волоцкий рассуждал об этом так: "Цари и князья должны всячески заботиться о благочестии и охранять своих подданных от треволнения душевного и телесного. Так у солнца своё дело: освещать живущих на земле, а у царя - своё: заботиться о всех своих подданных. Получив от Бога царский скипетр, следи за тем, как угождаешь Давшему его тебе, ведь ты ответишь Богу не только за себя: если другие творят зло, то ты, давший им волю, будешь отвечать перед Богом" [32]. Сверхчеловеческую ответственность, налагаемую их положением, осознавали и сами средневековые государи. С глубокой убеждённостью писал об этом Иван Грозный в одном из своих полемических писем к Андрею Курбскому: "Я верю в Страшный суд Господень. Также и то знаю, что Христос владеет небом, и землёй, и преисподней, живыми и мёртвыми… Верю, что мне, как рабу, предстоит суд не только за свои грехи, вольные и невольные, но и за грехи моих подданных, совершённые из-за моей неосмотрительности" [33]. Царская власть неограниченна, но не безусловна. Это не власть Гоббсова "Левиафана", которая безответственна перед народом, ибо народа как кровнородственного и духовного организма здесь не существует, а существует только механическая сумма индивидов, совокупляющихся в гражданское общество, чтобы обуздать свою собственную агрессивность. С точки зрения средневекового политического сознания, если земной владыка не благое творит, то подданные освобождаются от обязанности повиноваться ему: "Ведь всякий царь или князь, - писал Иосиф Волоцкий, - живущий в небрежении, не пекущийся о своих подданных и не имеющий страха Божия, становится слугой сатаны" [34]. Нечестивый царь погубит своё царство, как это случилось с византийскими императорами "за великую их гордость, за иудейское сребролюбие и лихоимство, победившись которыми, они неправедно грабили имения своих подчинённых, презирали своих бояр, живущих в скудости и лишении необходимого, и обиду вдовиц, сирот и нищих оставляли без отмщения" [35]. Средневековье отстаивало в образе правителя не надзирателя на рынке, а попечителя, благоустроителя, покровителя бедных, защитника униженных и оскорблённых. Священник Сильвестр, ближайший советник и сотрудник царя Ивана Грозного, в своём послании к нему разъяснял устроительные задачи повелителя: "Понеже, государь, еси в православной своей области Богом поставлен, и верою утверждён, и ограждён святостию, глава всем людям своим, и государь святой церковию, и наставник крепок людям своим, и учитель и ходатай к Богу, и тёплый предстатель" [36]. Политический идеал Средневековья, согласно которому "царь должен охранять от всякого вреда, душевного и телесного, всё, что ему подвластно" [37], естественно подразумевал право всякого на жизнь и на прокормление вне зависимости от его рыночной ценности. Недаром русская пословица гласила, что "на Руси никто с голоду не помирал" (см. у В.И.Даля). Гарантией права на жизнь являлись практиковавшееся в русской крестьянской общине наделение каждого землёю в соответствии с его потребностями и трудовыми возможностями. В Средние века в России любой человек мог вступить в крестьянскую общину и получить от неё столько земли, сколько мог обработать [38]. Нетрудоспособных и пострадавших от каких-либо несчастий (пожар, неурожай, падёж скота и т.п.) членов общины выручала система мирских "помочей". Так, по сообщениям из Новгородской губернии, относящимся к 1870-м гг., "в случае постигшего домохозяина несчастья, например, пожара, мир даёт бесплатно лес для постройки; если кто заболеет, то мир бесплатно исправляет его хозяйственные работы: убирает хлеб, сено и т.п.; на работу должны идти все; не желающего может принудить староста". Оттого в Новгородской губернии, "не найдётся ни одного просящего милостыню", так как "даже погорельцы не ходят за подаянием, а ждут и уверены, что каждый сам придёт к ним с помощью по силе и возможности" [39]. Уравнительные и перераспределительные механизмы в крестьянской семье и деревенской общине являлись скрытыми формами социального страхования. Но их существование вытекало не из утопического стремления навязать жизни отвлеченный идеал справедливости, а из многовекового практического опыта выживания земледельческих обществ. Эти механизмы "подразумевают только то, что все имеют право на жизнь на основе деревенских ресурсов и что возможной платой за это часто была утрата статуса и самостоятельности" [40], то есть индивидуальной свободы и моральной автономии человека буржуазного общества. Поэтому в средневековом традиционном обществе, где крестьяне составляли 98 % населения, голод мог возникнуть только из-за природных катаклизмов (и тогда страдали все одинаково), но не вследствие социальных причин, лишающих права на жизнь отбракованных рынком неудачников. В случае чрезвычайных стихийных бедствий, захватывающих обширные территории, если были не в силах помочь соседи или община, вступало в дело государство. Так произошло во время голода 1601-1603 гг. при царе Борисе Годунове, когда правительство осуществляло масштабную программу продовольственной помощи пострадавшим… Такие же страховочные механизмы, основанные на принципе "гарантированной свободы от нужды", существовали во всех докапиталистических обществах, включая самые примитивные. "Именно отсутствие угрозы голода для индивида делает первобытное общество в известном смысле более гуманным, чем общество рыночное", - писал один из наиболее вдумчивых исследователей западного капитализма, автор книги "Великая трансформация", Карл Поланьи. "Ирония истории, - отмечал он, - заключается в том, что первым новшеством, которым белый человек обогатил чёрного человека, стало главным образом практическое ознакомление последнего с бичом голода и с великой его пользой. Колонисты, к примеру, могут принять решение вырубить все хлебные деревья в округе, чтобы создать искусственную нехватку пищи, или же ввести налог на хижины, чтобы принудить туземцев продавать свой труд…" [41] Аналогичными методами народы втягивались в водоворот рыночного хозяйства и в самой Европе. Очевидна огромная разница в нравственных и политических идеалах, в представлениях о смысле существования человека и государства между Средневековьем и современной капиталистической эпохой, и обусловлена эта разница глубокими отличиями хозяйственных укладов и вырастающих из них социальных систем. Аграрное общество Средневековья и индустриальное общество Нового Времени представляют два противоположных типа жизнеустройства. Основой и олицетворением первого был мужик-пахарь. Его быт и его менталитет задавали матрицу средневекового общества и средневековой культуры. Их своеобразие, их духовный облик, подчёркнутая религиозность всего строя тогдашней жизни определялись "культурной гегемонией" крестьянства. Можно сказать, что они были христианскими настолько, насколько были крестьянскими. Это обстоятельство не укрылось от сознания средневековых интеллектуалов. Известный писатель XVI в. Ермолай-Еразм, автор первого на Руси специального политэкономического трактата "Наставление благохотящим царям", указывал на литургийность крестьянского труда, возвышая крестьянина-землепашца не только как хозяйственное, но и мистическое средоточие народа: "Вельможи тоже нужны в государстве, - писал Ермолай-Еразм, - но никто из них не кормится своим трудом. Поэтому прежде всего необходимы землепашцы-ратаи, их труд даёт хлеб - вершину всех благ: хлеб приносится как бескровная жертва Богу и превращается в тело Христово, хлебом от трудов крестьянских кормится вся земля - от царя до простых людей" [42]. Признание исключительного значения крестьянина и крестьянского труда в средневековом христианском обществе нашло яркое выражение и в рассказе "О некоем поселянине", которое входит в написанное Епифанием Премудрым "Житие Сергия Радонежского" (1417-1418). Епифаний рассказывает, как однажды к святому явился некий "поселянин, чином орачь, земледелец, живый на селе своём, орый плугом своим и от своего труда питаася". Крестьянин застал самого Сергия за земледельческим трудом. Святой оторвался от работы и пошёл навстречу поселянину и, "не дождав от него прежде поклонениа, но сам прежде предварив, приступль на целование земледелче, со тщанием же и спешаше, и с великым смирением поклонися ему до земли" [43]. Никто из сильных мира сего, князей, бояр и церковных иерархов не удостаивался у Сергия такой встречи… Высокий статус земледельческого и вообще физического труда - характерная черта Средневековья, резко отделяющая его от эпохи Античности, когда труд считался позорным уделом "говорящих орудий" - рабов [44]. Русские средневековые писатели особенно подчёркивали необходимость "рукоделия" даже для иноков, посвятивших себя духовной жизни. Без личного труда не может быть спасения. "Кто не хощет делати, да не ясть", - любил повторять слова апостола Павла Иосиф Волоцкий [45]. Автор же "Беседы Валаамских чудотворцев" недвусмысленно указывал, что инокам следует кормиться "от своих праведных трудов и своею потною прямою силою, а не царским жалованием и не христианскими слезами" [46]. При этом обладание собственностью рассматривалось как непреодолимое препятствие на пути в Царствие Небесное. "Аще хочешь жити в общем житии, - обращался Иосиф Волоцкий к монашествующим, - да отречешися всякыя вещи, да не имаше власти ни над чашею, и тако можеши в общем житии спастися" [47]. Такое отрицательное отношение к собственности вытекало из очевидного для русских мыслителей того времени факта, что "всяко богатство от властвующих коварств насилием или некими ухищренми много сбираемо, от своего же труда много богатества никому же мощно собрати" [48]. То есть любое богатство, воплощённое в собственности, могло возникнуть только благодаря эксплуатации ближнего, и, стало быть, оно неприемлемо для православного христианина. С особенной силой осуждалась в средневековой христианской литературе душегубительная страсть к стяжанию. Преподобный Максим Грек (ок. 1470-1558), например, писал: "Где желание приобретать имения, там всячески и непомерное любление золота, и сладострастие, и попечение, и ссоры… Где изобилуют помянутые страсти, там и лихоимство и то, чтобы делать всё ради человекоугодия, а этим производится бесчеловечие, и такие люди делаются свирепее зверей" [49]. Максим Грек не только осуждал грех сребролюбия, свойственный в той или иной форме любой исторической эпохе, но и разъяснял, какую разновидность этого греха он считает наиболее вредной. "Бегай, - убеждал он, - зла богомерзкого ростовщичества… Питаясь кровию бедственно живущих и утешаясь пагубною лихвою, ты уподобляешься какому-то зверю - кровопийце, и из сухих костей стараешься высосать мозги, подобно псам и воронам". Он не находил достаточно сильных слов, чтобы выразить своё отвращение к ростовщикам: "Пока двойными процентами с радостью пьёшь кровь живущих в бедности и бесчисленными принудительными трудами высасываешь у них мозги, до тех пор ты для меня ничем не отличаешься от иноплеменника - скифа и христоубийц, хотя и хвалишься крещением" [50]. Ермолай-Еразм объяснял греховность ростовщичества противоречием его естеству, проявляющимся в нём извращении природы созданных Богом вещей: "Аще сребро твое даси в лихву и се убо расторже любовь, яко бо всякое животное Божиим повелением растёт, садовное же по Божию повелению от солнечного огреваниа растёт, твоему же сребру не положи Бог растениа, ты же противишися Богу, яко нерасленному повелеваеши расти" [51]. Максим Грек и Ермолай-Еразм писали уже во времена Ренессанса и Реформации, давших мощный толчок буржуазной эволюции Европы и мира. Их слова были ответом и проклятием Средневековья наступающему капитализму, квинтэссенцией которого как экономического строя нельзя не признать банковскую деятельность, основанную именно на ростовщичестве и взимании лихвенных процентов. "Банки и биржа - это капитализм в чистом его виде", - утверждал немецкий социолог Вернер Зомбарт (1859-1941). "Организация кредита в банках, - пояснял он, - проникнута капиталистическим духом в большей степени, чем всякая другая область хозяйственной жизни", так как в банках "воплотился в чистом виде дух нового хозяйства, освобождённый от всех докапиталистических примесей" [52]. Ещё Аристотель в своей "Политике", введя в оборот термин "экономика" (дословно - "домохозяйство", "домострой"), понимал под нею именно натуральное, по преимуществу крестьянское хозяйство. Такое хозяйство, ведущееся ради самостоятельного удовлетворения естественных потребностей в жизненных благах (пище, одежде, жилище и т.д.), греческий мыслитель признавал сообразным природе человека. Напротив, меновое, рыночное хозяйство, преследующее целью получение максимальной прибыли и накопления капитала, Аристотель называл "хрематистикой", считая этот тип хозяйства патологическим отклонением от нормы. С точки зрения Зомбарта, всякое докапиталистическое хозяйство по цели своей экономической деятельности является потребительским, или расходным хозяйством. В таком хозяйстве "сперва определяются расходы, а в соответствии с ними доходы", то есть "производить нужно столько благ, сколько человек потребляет, он должен получать столько, сколько он отдаёт" [53]. "Идея пропитания" господствовала над умами, побуждая людей работать лишь столько, сколько необходимо для покрытия своих элементарных потребностей. Остальное время посвящалось веселью и созерцанию. В средневековой христианской Европе на различные праздники приходилось от половины до 2/3 дней в году. "С работой не спешат, - пишет Зомбарт о трудовом ритме Средневековья. - Люди совершенно не заинтересованы в том, чтобы в короткое или хотя бы в определённое время произвести или изготовить побольше вещей. Длительность производственного периода определяется двумя моментами: необходимостью хорошо и солидно изготовить предмет и естественными потребностями самого работающего человека. Производство благ есть деятельность живых людей, "переживающих" себя в своём творении; поэтому оно в такой же степени следует органическим законам этих полнокровных индивидуумов, в какой, например, рост дерева или акт рождения у животных определяется в его направлении, цели и мере внутренней необходимостью этих существ" [54]. Иными словами, "до возникновения капитализма в центре всех стремлений и всех забот стоит живой человек". Он - "мера всех вещей" [55]. Совершенно другой характер носит капиталистическая хозяйственная этика. Обратимся снова к Зомбарту: "Каков идеал, каковы центральные жизненные ценности, на которые современный экономический человек ориентируется? И тут мы немедленно же натыкаемся на странный сдвиг в отношении человека к личным ценностям в более узком смысле, сдвиг, который приобрёл решающее значение для всего остального строения жизни. Я разумею тот факт, что живой человек с его счастьем и горем, с его потребностями и требованиями вытеснен из центра круга интересов и место его заняли две абстракции: нажива и дело. Человек, следовательно, перестал быть тем, чем он оставался до конца раннекапиталистической эпохи, - мерой всех вещей…" [56] Именно тогда, когда не сам человек, а нажива и дело (бизнес) становятся средоточием человеческого существования, важнейшее значение приобретает та либеральная "свобода", о которой много говорилось выше и которую Зомбарт, не прибегая к псевдонаучным эвфемизмам, метко назвал "свободой локтей". "В этой свободе локтей, - говорит он, - заключена, во-первых, формальная свобода - иметь возможность делать или не делать то, что считают необходимым в интересах дела. Не хотят никакого ограничения ни правом, ни обычаем; не хотят никакого ограждения других хозяйствующих субъектов, но хотят иметь право убить конкуренцией всякого другого, если того требует собственный интерес". Это - свобода экономического убийства - и составляет содержание известного лозунга буржуазного либерализма " laissez faire, laissez passer ". "Во-вторых, - продолжает Зомбарт, - в требовании свободы локтей заключена идея ни с чем не считающейся наживы. С её господством признаётся первенство ценности наживы над всеми другими ценностями. Связей какого бы то ни было рода - нравственных, эстетических, сердечных - больше не существует" [57]. Нажива, выгода, прибыль, ставшие категорическим императивом буржуазной этики, жёстко обуславливают поведение индивида, побуждая его любые отношения между людьми превращать в экономические и переводить их в денежную форму. Так легче выявить и устранить различные сентиментальные примеси, искажающие чистоту конкурентной борьбы за существование. Интересную интерпретацию докапиталистического и капиталистического жизнеустройств через анализ присущих им социальных взаимосвязей даёт в своём классическом труде "Общность и общество" (1887) Фердинанд Тённис. Общность ("гемайншафт") является, согласно Тённису, естественным образованием, общество ("гезельшафт") - искусственным. "Естественные единства" складываются на основе непосредственных взаимоотношений людей: родственных (род, семья), соседских (община), профессиональных (цех, гильдия), духовных (приход, братство, церковь). Однако, по убеждению Тённиса, "все эти многосложные образования содержатся в идее семьи как наиболее всеобщего выражения реальности общности и из неё проистекают". Поэтому глава семейства и хозяин дома занимает в этой социальной системе ключевое место. В "естественных единствах" выходящих за рамки кровнородственной семьи роль "отца" может выполнять барин-помещик, государь, пастырь и т.д. При этом "отношения между общиной и господами, и уж тем более между общиной и её товарищами, основаны не на контрактах, а, как в семье, на взаимопонимании". В подобном патриархальном обществе огромное значение приобретает связь поколений, преемство между ними, обычай и традиция. Понятие родины, земли предков, земли-кормилицы, земли-матери служит здесь выражением пространственно-временного единства человеческой общности, её органической включённости в систему мироздания. Перенесение архетипов семейных отношений на космический порядок составляет сущность религии, которая оказывается наиболее полным и ёмким воплощением традиционного общества. По мере перехода "от всеобщего домашнего хозяйства ко всеобщему торговому хозяйству", "от господства земледелия к господству промышленности" происходит разложение "гемайншафта". Домашнее натуральное хозяйство сменяется рыночным, земледелие и кустарные промыслы не выдерживают конкуренции с промышленностью мегаполисов, феодальный порядок личной зависимости и патриархальных отношений уступают место безличному бюрократическому государству, религия как регулятор социальной жизни и источник морали вытесняется наукой. Рыцарь, пахарь и священник капитулируют перед торговцем, банкиром и адвокатом. Связь между людьми по типу "кровь и почва" заменяется связью формально-юридической, преобладающими становятся взаимоотношения торгового обмена, общество превращается в "совокупность контрактов". "Рациональное, научное и свободное право, - полагал Тённис, - стало возможным лишь благодаря действительной эмансипации индивидуумов от всех семейных, территориальных и городских уз, от предрассудков и верований, от унаследованных традиционных форм, привычек и обязанностей. И именно она вела к упадку созидательного и благотворного общностного домохозяйства в деревне и в городе, к закату земледельческой общины… То была победа эгоизма, дерзости, лжи и притворства, торжество сребролюбия, честолюбия и тяги к наслаждению, но, кроме того, также и несомненная победа созерцательной, ясной и трезвой сознательности, благодаря которой учёные и образованные слои отваживались вмешиваться в дела божественные и человеческие". Поскольку в рыночном обществе ("гезельшафт") "жизнь понимается как сделка", требующая тщательного подсчёта выгод, прибылей и издержек, то важнейшее значение в подобном жизнеустройстве приобретает логико-математические, рациональные методы мышления. Таким образом, между капиталистическим хозяйством, формально-юридическим правопорядком и рациональной наукой современного индустриального общества существует прямая зависимость [58]. Идеи Тённиса о соотношении структур традиционного аграрного и современного индустриального общества получили развитие в трудах крупнейших социологов и экономистов XX столетия. Вслед за Тённисом и Макс Вебер противопоставлял "легальный" (рационально-бюрократический) и традиционный (докапиталистический) тип господства: "Традиционное господство основано на вере не только в законность, но даже в священность издревле существующих порядков и властей… Чистейшим типом такого господства является, по М.Веберу, патриархальное господство, характерное, в отличие от легального, для тех обществ, которые предшествовали современному буржуазному обществу. Союз господствующих представляет собой гемайншафт: тип начальника - "господин", штаб управления - "слуги", подчинённые - "подданные", которые послушны господину в силу пиетета. Вебер подчёркивает, что патриархальный тип господства по своей структуре во многом сходен со структурой семьи" [59]. "В сущности, семейный союз есть клеточка традиционных отношений господства", - писал он [60]. Дальнейшее теоретическое обобщение и углубление этих идей шло по пути исследования перехода от феодального "гемайншафта" к капиталистическому "гезельшафту" как процесса всесторонней рационализации, логике которого подчинялось изменение и хозяйственных практик, и этических норм, и политических институтов. Так, Зомбарт считал родовым признаком "капиталистического духа" стремление к "абсолютной рационализации" во всех сферах жизнедеятельности [61]. По мнению американского экономиста Йозефа Шумпетера, "именно капитализм, - а не просто экономическая деятельность вообще, - был в конечном итоге движущей силой рационализации человеческого поведения". Происходило это так: "Капиталистическая практика превращает деньги в инструмент рациональной калькуляции прибыли и издержек, над которой монументом высится бухгалтерский учёт по методу двойной записи… Изначально представляя собою продукт эволюции экономической рациональности, расчёт прибылей и издержек, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на эту рациональность; постепенно совершенствуясь и беря на вооружение количественные категории, он мощно продвигает вперёд логику предпринимательства. И когда эта логика, метод или установка достигает определённого уровня развития, или квантифицированности, применительно к экономической области, она начинает распространяться дальше, подчиняя себе, т.е. рационализируя орудия труда человека и его представления, приёмы врачевания, картину мироздания, взгляды на жизнь - рационализируя всё, включая его идеалы красоты, справедливости и духовные запросы…" [62] Согласно М.Веберу, капиталистическое хозяйство является наиболее полным воплощением формально-рациональных принципов в экономической сфере. "В конце концов, - заключал он, - создателями капитализма были: рациональное постоянное предприятие, рациональная бухгалтерия; рациональная техника, рациональное право…" [63]. Но при этом Вебер сделал важное уточнение, объясняющее связь экономических и политических аспектов капиталистической модернизации: "Современная рационализация права, - писал он, - является продуктом двух сил, действующих бок о бок. С одной стороны, капитализм, заинтересованный в строго формальном праве и судебной процедуре… С другой стороны, рационализм чиновничества в абсолютистских государствах вёл к заинтересованности в кодифицированных системах и однородном праве… Ни одна современная правовая система не возникла при отсутствии одной из этих двух сил…" [64] Итак, капитализм и бюрократии стали создателями "правового общества", воплощающего либеральный идеал. "Капитализм и бюрократия обрели друг друга и крепко друг с другом срослись", - считал Вебер. История Европы в Новое Время описывается им, как "неудержимый марш бюрократии", процесс, представляющий собой "недвусмысленный критерий модернизации государства", подобно тому, как продвижение к капитализму служит критерием модернизации общества [65]. Тесно связанными и взаимообусловленными процессами считал накопление капитала и "накопление власти", т.е. укоренение бюрократических дисциплинарных технологий управления, французский историк-структуралист Мишель Фуко. При этом, как утверждал Фуко, противоречие между бюрократическим контролем и буржуазными свободами кажущееся и поверхностное, ибо "реальные, телесные дисциплины образуют фундамент формальных, юридических свобод". "Эпоха Просвещения, открывшая свободы, изобрела и дисциплины", - подчёркивал он [66]. Бюрократия, полиция, тюрьма, казарма, всеобъемлющий надзор и контроль как за внешним поведением человека, так и за его внутренним миром, - всё это изобретения Нового Времени, эпохи капитализма. На феноменальный рост и метастазирование бюрократических структур в обществе, только что избавившемся от феодального гнёта и провозгласившем каждого индивида свободным и независимым, впервые обратил внимание ещё в середине XIX века французский политолог Алексис де Токвиль (1806-1858). В книге "Старый порядок и революция" он попытался осмыслить парадоксальное явление: чем более радикально порывало общество с прежним средневековым жизнеустройством, с его показавшимися вдруг невыносимыми ограничениями личной свободы - монархической властью, церковным авторитетом, патриархальной семьёй, традиционными моральными нормами и табу, - тем сильнее опутывала одинокого человека густая паутина законов и регламентов, тем многочисленнее становился управленческий аппарат и изощрённее административные техники. Токвиль увидел, что Великая французская революция 1789 г. в действительности явилась не более чем завершением процесса централизации управления, начатом и достигшем апогея ещё при Людовиках. Королевская власть, стремясь быть просвещённой и современной, уничтожала автономные учреждения средневековых провинций (Бургундии, Нормандии, Бретани и т.д.), упраздняла элементы самостоятельности сословий и разделения властей в виде корпоративных привилегий, не замечая, что уничтожает вместе с ними и свою собственную опору. Замена прежних феодальных государственных институтов бюрократическими не принесла народу желанной свободы. Чиновничество оказалось гораздо более чуждо духу свободы и независимости, нежели аристократия. "Навсегда останется заслуживающим сожаления то обстоятельство, что мы, вместо того, чтобы подчинить дворянство господству законов, совершенно уничтожили его и вырвали с корнем, - указывал Токвиль. - Этот акт лишил нацию одного из необходимых элементов её существа и нанёс свободе такую рану, которая никогда не заживёт…" Ибо, по его мнению, "дворянство не только в своей среде воспитывает мужественные нравы, но своим примером усиливает их также в других классах" [67], что является необходимым условием гражданской свободы. "Раз народ уничтожил в своей среде аристократию, он как бы сам собою стремиться к централизации", - утверждал Токвиль [68]. В результате процессов начавшихся при Старом порядке и завершившихся Великой революцией во Франции сложился "такой общественный строй, при котором нет другой аристократии, кроме чиновничества, при котором единая и всесильная администрация правит государством и опекает частных лиц" [69]. Важным моментом в книге Токвиля являлось также установленная им тесная связь процесса бюрократической централизации с процессами возвышения буржуазии, развития капиталистических отношений и политической демократизации. "В обществах демократических, - писал он, - где нет ничего прочного, каждый ежеминутно терзается страхом быть оттеснённым вниз и страстным желанием подняться повыше; и так как деньги, став главным признаком, разделяющим людей и отличающим их друг от друга, в то же время приобрели необычайную подвижность, преобразуют общественное положение людей, возвышая или принижая семьи, - в таких обществах не существует почти никого, кто не был бы вынужден делать отчаянные и постоянные усилия с целью сберечь или приобрести деньги. Таким образом, желание богатства во что бы то ни стало, искание прибыльных афер, страсть к барышу, погоня за благосостоянием и материальными наслаждениями являются в таких обществах самыми обычными страстями…" Разобщённые экономической конкуренцией друг с другом граждане оказываются бессильны перед единственной сплочённой силой в обществе - бюрократией. Бюрократическая государственная машина становится всемогущей и подавляет слабые ростки свободы и гражданского самосознания, поощряя лишь низменные инстинкты алчности и стяжательства, которые исключают возможность какой-либо устойчивой общественной солидарности между людьми [70]. Спустя столетие после опубликования книги "Старый порядок и революция" Карл Поланьи дополнил объяснение парадокса Токвиля весьма существенным соображением о принципиальной противоестественности рыночного общества. Если "создание свободных рынков вовсе не устранило необходимость контроля, регулирования и вмешательства, а как раз невероятным образом увеличило их масштаб", то, считал Поланьи, это произошло по той простой причине, что система свободно-рыночных отношений носила с самого начала совершенно искусственный, насильственно навязанный обществу характер [71]. Вырвав человека из естественной семейной, общинной, народной среды, разрушив эти органические единства ради превращения его в изолированный атом и свободно отчуждаемый рыночный товар, капиталистическая система должна была прилагать недюжинные усилия, чтобы поддержать жизнеспособность выращенного в научных лабораториях общества-Левиафана. Мощные государственные структуры, разветвлённый бюрократический аппарат, построенный на научно-рациональных принципах, обеспечивают существование популяции хомо экономикус, которая не смогла бы выжить вне искусственно создаваемых условий наибольшего благоприятствования. Итак, искусственная конструкция - идея саморегулирующейся рыночной системы (аналог самодвижущейся ньютоновской вселенной) - лежит в основе капиталистического общества. Происходящее при внедрении этой системы превращение в предмет свободной купли-продажи рабочей силы, земли и денег представляет собой самую значительную и самую загадочную социальную мутацию со времени зарождения человеческой цивилизации [72]. Ни рабочая сила, труд, то есть сам человек; ни земля, то есть природа; ни деньги как мера покупательной стоимости по самой своей сущности не могут служить товарами, и бытование их в этом качестве не свойственно ни одному хозяйственному укладу, кроме капитализма. Они не производятся для продажи, а являются либо Божьим даром (человек и природа), либо абстрактной мерой количества (деньги) [73], и вместе составляют необходимые предпосылки существования сложного общества. Натуральная экономика Средневековья вполне обходилась без купли-продажи самих основ воспроизводства жизни. Аграрный тип хозяйства забирал у природы лишь то, что могло быть возвращено или восстановлено естественным путём. Иное дело саморегулирующийся рынок, он засасывает в свою пасть и человека, и природу, чтобы извергнуть обратно горы промышленного мусора и социального шлака. По идее идеологов либерализма, рыночная экономика представляет собой утопию замкнутой равновесной системы, приносящей прибыль в каждом цикле (без прибыли всё это теряет смысл), но в этом случае она должна бы быть машиной с КПД более 100 %, то есть чем-то вроде вечного двигателя (так примерно и мыслил свою вселенную Ньютон). Однако такие системы есть либо чистая фикция, так как противоречат фундаментальным законам мироздания (например, второму закону термодинамики, закону сохранения энергии и вещества, и т.д.), либо они должны иметь внешний источник питания. По знаменитому выражению Михайлы Ломоносова, "ежели где убудет, то умножится в другом месте". Этот закон, как считал Ломоносов, имеет универсальный характер, и странно, что именно к рыночной экономике его тщательно избегают прилагать. Однако если, согласно рыночным постулатам, капиталистическая система в целом и все её подсистемы вплоть до отдельных субъектов рынка прибыльны (те, которые не приносят прибыли, отмирают), то где-то кто-то и в чём-то неизбежно терпит убыток. Именно поэтому рыночный механизм нуждается в постоянном притоке извне человеческих и природных ресурсов и расширении физического и социального пространства для свалки своих отходов [74]. В качестве резервуара человеческого и минерального сырья выступали на протяжении истории капиталистического хозяйства Запада то заморские колонии, то страны "третьего мира", то собственные трудящиеся массы - крестьяне и рабочие. Как заметил ещё Мальтус, производство обычных товаров подчиняется рыночным законам ("арифметической прогрессии"), тогда как "производство" людей и природных благ подчиняется нелинейным закономерностям. Потому-то превращение в товар человека и земли вызывает невероятные экологические и социокультурные диспропорции, порождает широко известные по марксистской критике капитализма феномены эксплуатации и отчуждения. Однако степень эксплуатации человека в индустриально-капиталистическом обществе, как это блестяще показал А.С.Панарин, отнюдь не исчерпывается присвоением неоплаченного рабочего времени. Дегуманизация проникает в самую ткань человеческого существования, омертвляя живую, органическую первооснову бытия, убивая космический Эрос, спонтанно-творческую пульсацию жизни. Дело в том, что "промышленность, и капиталистическая, и социалистическая, добывала свой человеческий материал из недр совсем другой культуры. Подобно тому, как в физическом отношении современная энергетика питается продуктами превращённой органики далеких геологических эпох - углём, нефтью и газом, которых ныне природа уже не производит, современная цивилизация питается человеческой энергетикой, источники которой принадлежат прошлому" [75]. В капиталистическую индустриализацию, в процесс "первоначального накопления" был авансирован огромный социальный капитал, созданный в недрах традиционного средневекового общества. Крестьянин, воспитанный в патриархальной семье и в общине, выросший в непосредственном соприкосновении, в литургическом сотворчестве с живой природой, с Землёй-Матушкой, привык отдавать больше, чем брать. Особенно в России, с её скудной почвой и суровым северным климатом, земля вознаграждала мужика значительно меньше трудозатрат, научая искусству дарения. Бесплодная и бессмысленная, с рыночно-капиталистической точки зрения, жизнь великорусского пахаря давала ему нечто большее, чем прибыль, - ощущение сыновства Земли-Матушки, родства с природой и с окружающими людьми, отношения с которыми также строились на принципе дара. Созвучие крестьянского мироощущения с евангельской этикой жертвы и дарения позволило средневековой Руси стать Святой Русью. Между тем на Западе принцип дара - "безумие для эллинов, соблазн для иудеев" - был опорочен и отвергнут рационализмом флорентийских менял, давший жизнь двойной бухгалтерии, физике Ньютона, философии Локка и политэкономии Адама Смита. Век Просвещения, век XVIII, стал эпохой решающих побед буржуазной идеологии в Европе и начала промышленной революции. Средневековый Старый порядок должен был пасть и стать сырьём для переработки в новую рыночно-капиталистическую цивилизацию… [1] "Жидовствующие в XV, а до них ещё стригольники в XIV веках во многом предвосхитили протестантские идеи Западной Европы", - считал историк средневековой общественной мысли Будовниц (см.: Будовниц И.У. Русская публицистика XVI века. М.-Л., 1947. С. 64). [2] См., напр.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М., 1990. [3] Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. М., 1993. С. 111. [4] Цит. по: Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 187. [5] Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. М., 1993. С. 112. [6] Такие идеи высказывали, например, флорентийцы Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола, жившие в конце XV в. (см.: Тарнас Р. История западного мышления. М., 1995. С. 180-181). [7] В книге советского историка В.И.Рутенбурга "Титаны Возрождения" (СПб., 1991) в числе героев той эпохи фигурируют не только Леонардо да Винчи, Микеланджело, Дюрер, но и Лютер, а также Макиавелли. [8] По мнению же Иосифа Волоцкого, "каждый, кто хочет понять Писание, пусть не надеется на свой ум, пусть не считает его достаточным". И "если кто-либо порочит и осуждает Священное Писание, полагаясь лишь на свой разум, - нет его безумнее" (Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 127). [9] Божественное достоинство, по убеждению философов-просветителей, придавал человеку его разум. Один из современников Гоббса, француз Клод Жильбер, писал так: "Следуя разуму, мы не зависим более ни от кого, кроме самих себя, и тем самым становимся в некотором смысле богами" (Цит. по: Фёдорова М.М. Модернизм и антимодернизм во французской политической мысли XIX века. М., 1997. С. 62). Однако оборотной стороной претензий разума на божественность оказывалось сатанинское одиночество его носителей. [10] Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1991. С. 93-95, 110, 126-128, 132-133 и др. [11] Там же. С. 136-137. [12] См.: Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения в трёх томах. Т. 3. М., 1988. С. 346-356. [13] См., напр.: Кузнецов Б.Г. Ньютон. М., 1982. С. 152-155. [14] См. подробнее: Деборин А.М. Социально-политические учения Нового времени. Т. 1. М., 1958. С. 365-384. [15] Об инвариантах ньютоновской физики в политике и экономике см.: Кара-Мурза С.Г. Идеология и мать её наука. М., 2002. [16] Смит Адам. Исследование о богатстве народов. Пг., 1924. С. 46. [17] Там же. С. 112-113, 147-148. [18] См.: Смит Адам. Исследование о богатстве народов. С. 115. [19] Цит. по: Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. М., 1985. С. 169. [20] Ещё более откровенно и прямолинейно, нежели Смит, высказывали подобные мысли физиократы (см.: Деборин А.М. Социально-политические учения Нового времени. С. 7-8). [21] Смит Адам. Исследование о богатстве народов. С. 87. [22] Американский социолог и экономист Карл Поланьи (1891-1976) окончательную победу капитализма связывал именно с принятием в Англии в 1834 г. закона о лишении бедных права на прокормление (см.: Поланьи Карл. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб., 2002. С. 97). [23] Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения // Антология экономической классики. М., 1993. С. 115. [24] Цит. по: Милютин В.А. Избранные произведения. М., 1946. С. 97-98. [25] Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения. С. 60. [26] Об универсализме средневековой цивилизации см.: Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987. С. 135-153; Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 198-211. [27] Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. М., 1993. С. 187. [28] Цит. по: Быть России в славе и благоденствии: Послания великом князьям, царям, императорам, политическим деятелям о том, как улучшить "государственное устроение". М., 2002. С. 16. [29] Иерархический ("лествичный" принцип) пронизывал весь строй бытия христианского Средневековья: не только космос и политические учреждения, но и внутренний духовный мир человека подчинялся закону восхождения от низшего к высшему (см., напр., "Лествицу" Иоанна Лествичника). [30] Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 367. [31] Цит. по: Красноречие Древней Руси ( XI - XVII вв.). М., 1987. С. 252-253. Такие же наставления давал Сильвестр в своём знаменитом "Домострое" (см.: Домострой. М., 1990. С. 117). [32] Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 367. [33] Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993. С. 149. [34] Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 367, 369 и др. [35] Послание Максима Грека к Ивану Грозному. Цит. по: Быть России в благоденствии и славе… С. 17. [36] Цит. по: Будовниц И.У. Русская публицистика XVI века. С. 200. [37] Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 368. [38] См.: Беляев И.Д. Крестьяне на Руси: Исследование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе. М., 2002. [39] См.: Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. М., 1986. С. 59. [40] См.: Скотт Джеймс. Моральная экономика крестьянства как этика выживания // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. М., 1992. С. 205. [41] Поланьи Карл. Великая трансформация… С. 184. [42] Цит. по: Красноречие Древней Руси ( XI - XVII вв.). М., 1987. С. 261. [43] См.: Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. С. 58-59. [44] См.: Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. С. 225-228, 268-281. [45] Послания Иосифа Волоцкого. М.-Л., 1959. С. 311-312. [46] Цит. по: История русской экономической мысли. Т. 1. Ч. 1. М.,1955. С. 123. [47] Послания Иосифа Волоцкого. С. 308. [48] Ермолай-Еразм. Слово о рассуждении любви и правде // Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. С. 320. [49] Цит. по: Будовниц И.У. Русская публицистика XVI века. С. 148. [50] Там же. С. 150-151. [51] Ермолай-Еразм. Слово о рассуждении любви и правде. С. 325. [52] Зомбарт В. Народное хозяйство Германии в XIX и в начале XX века. М., 1924. С. 118, 103. [53] Зомбарт В. Современный капитализм. Т.1. Полутом. 1. М.-Л., 1931. С. 43. [54] Там же. С. 48-49. [55] Там же. С. 43. [56] Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. М. 1994. С. 131. [57] Там же. С. 140-141. [58] Тённис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб., 2002. С. 39, 54, 86, 207-208, 319, 344-345, 354, 378-380 и др. [59] Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. М., 1991. С. 83. [60] Там же. В афористической форме эту идею выразил один из героев О.Бальзака: "Отрубив голову Людовику XVI, Революция отрубила голову всем отцам семейства" (цит. по: Фуко М. Интеллектуалы и власть. М., 2002. С. 277). [61] Зомбарт В. Буржуа. С. 138-139. [62] Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. С. 173-176. [63] Вебер М. История хозяйства. Пг., 1923. С. 176-177. [64] Цит. по: Бусова Н.А. Модернизация, рациональность и право. Харьков, 2004. С. 37. [65] См.: Там же. С. 39, 50. [66] См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. С. 323-326. [67] Токвиль. Старый порядок и революция. 3-е изд. М., 1903. С. 129. [68] Там же. С. 77. [69] Там же. С. 187. [70] Там же. С. 15-16. [71] Поланьи Карл. Великая трансформация… С. 152-162. [72] Поланьи Карл. Великая трансформация… С. 82-91, 183-221. [73] Ткань можно измерять в метрах, картофель - в килограммах, их же меновая стоимость будет измеряться в деньгах. Трудно представить, чтобы кто-нибудь продавал, а кто-нибудь покупал метры или килограммы отдельно от картофеля и ситца. Это отдаёт абсурдом. Между тем, купля-продажа денег отдельно от их потребительного содержания является обыкновенным (и очень прибыльным) делом… [74] См.: Кара-Мурза С.Г. Истмат и проблема Восток-Запад. М., 2001. С.191-211. [75] Панарин А.С. Православная цивилизация. М., 2002. С. 94. http://www.voskres.ru/idea/dronov4_printed.htm |
 |
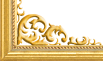 |
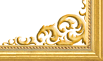 |
